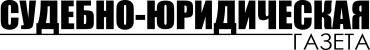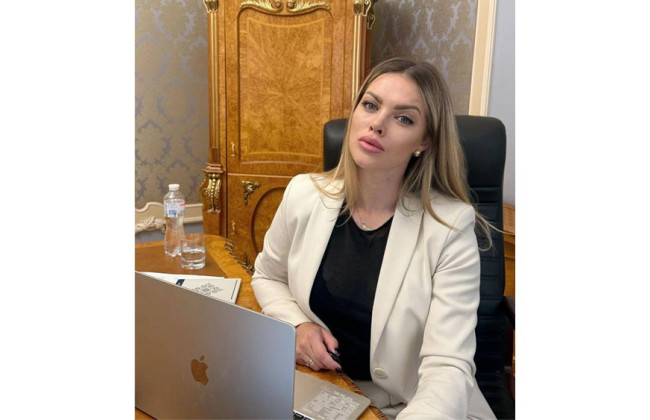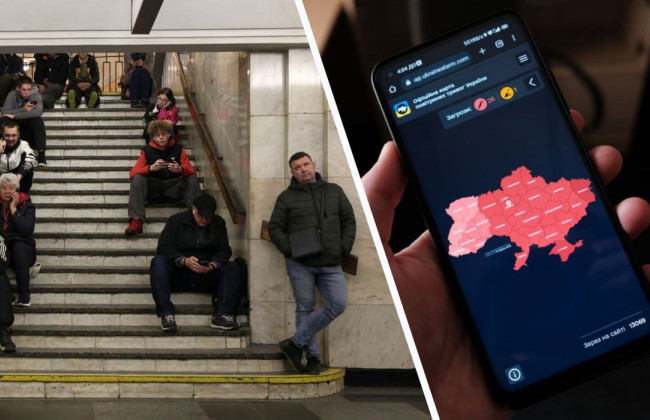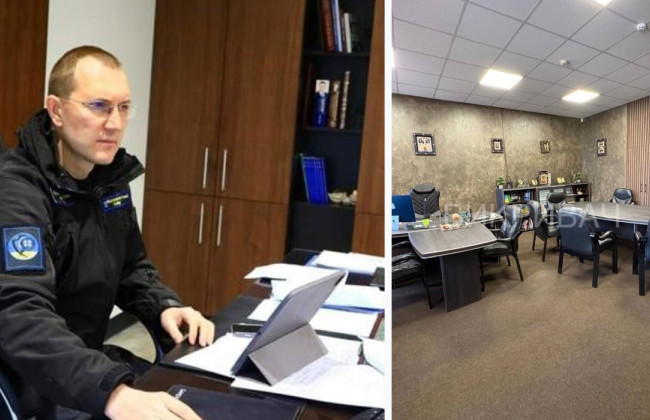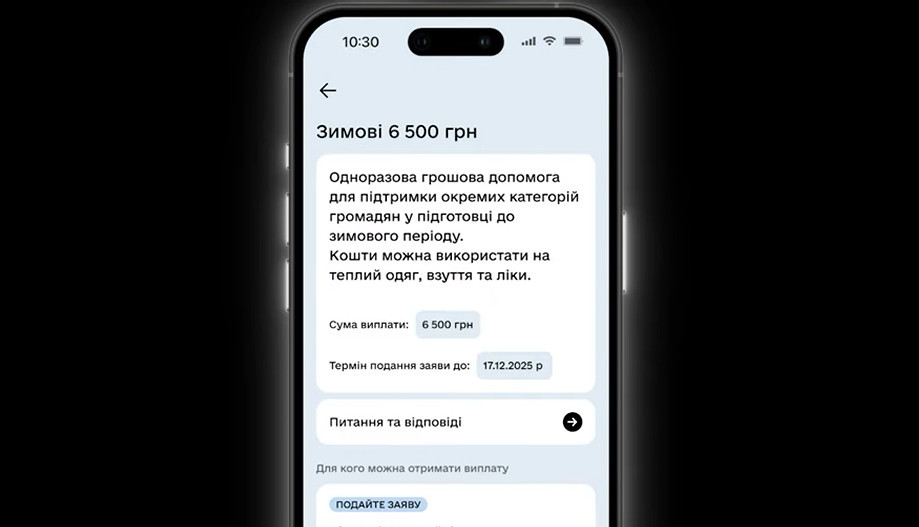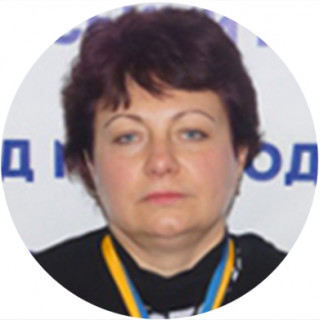Защита прав и интересов детей, установление их происхождения и обеспечение наследственных прав являются сегодня одними из ключевых вызовов для гражданского судопроизводства, особенно в условиях войны. Об этом рассказала судья Верховного Суда в Кассационном гражданском суде Ольга Ступак во время научно‑практического вебинара «Усыновление, опека над детьми и семейные споры в ракурсе наследования».
Судья детально проанализировала соблюдение принципа наилучших интересов ребенка в гражданском судопроизводстве на практических примерах семейных и наследственных споров, которые рассматривает Верховный Суд.
Определяя современные подходы, докладчица отметила, что украинское законодательство не содержит определения совместной физической опеки, однако эта модель является привычной для ряда европейских стран, к правовому пространству которых стремится интегрироваться Украина. Там совместная опека понимается как ситуация, когда оба родителя имеют равный голос в решении вопросов, касающихся ребенка, а не только формально определяют место его проживания. В Украине же акцент до сих пор в значительной мере сосредоточен именно на определении места проживания ребенка, хотя по закону это не лишает ни одного из родителей равенства прав в решении вопросов воспитания и развития ребёнка. Вместе с тем судебная практика демонстрирует появление новых категорий споров: один из родителей обращается в суд с требованиями обязать другого согласовывать посещение ребёнком определённого учебного заведения, спортивной секции, выбор больницы для медицинского обслуживания и тому подобное.
Одно из первых дел, в котором Верховный Суд отошёл от стандартного подхода к решению спора о месте проживания ребёнка, показало, как можно по‑новому осмысливать баланс между правами родителей и интересами ребёнка. Уже на стадии кассационного рассмотрения стороны были почти готовы заключить мировое соглашение, но не пришли к согласию относительно выбора учебного заведения для детей. Учитывая обстоятельства, суд определил возможность применения модели совместной физической опеки, когда дети поочерёдно проживают у каждого из родителей, а в идеале сохраняют одно жилище, куда по очереди приходят родители. По мнению судьи, именно этот метод «птичьего гнезда» является наиболее благоприятным для ребёнка, поскольку позволяет избежать постоянных переездов и сохранить для него ощущение устойчивого, безопасного дома.
В то же время модели, когда ребёнок вынужден каждую неделю или раз в две недели менять место проживания, могут больше соответствовать интересам взрослых, чем потребностям ребёнка, который должен жить в стабильной среде. Особое внимание судья уделила вопросу учёта мнения ребёнка. Она отметила, что национальная практика уже восприняла как устоявшийся подход необходимость выяснения позиции ребёнка в спорах, непосредственно касающихся его жизни, однако дискуссии ведутся вокруг способов такого выяснения. Ольга Ступак подчеркнула, что не поддерживает практику, когда ребёнка приводят в классический зал судебного заседания, где перед ним сидит коллегия судей, а рядом — мать и отец, ведь в такой ситуации на ребёнка фактически возлагается бремя решения спора между взрослыми. Мнение ребёнка должно выясняться в максимально комфортных для него условиях — у психолога, в специально оборудованных «зелёных комнатах» или других дружественных к ребёнку пространствах, а не в строгой атмосфере суда.
При этом, отметила судья, мнение ребёнка никогда не может быть единственным и определяющим критерием решения спора, поскольку суд должен не только выяснить его, но и мотивированно объяснить в решении, насколько это мнение принято во внимание и почему. Это связано с тем, что ребёнок, даже достигнув определённого уровня зрелости, всё же может находиться под влиянием одного из родителей или иных обстоятельств и выражать позицию ситуативно, не всегда осознавая все последствия.
Перейдя к теме усыновления в контексте наследования, Ольга Ступак обратила внимание на то, что юридически значимые факты, влияющие на наследственные права, в частности усыновление, должны существовать на момент открытия наследства. Поскольку усыновление возможно только по решению суда, для реализации наследственных прав важно, чтобы на момент открытия наследства соответствующее судебное решение уже вступило в законную силу. Судья напомнила, что Верховный Суд в своих постановлениях последовательно развивает подход к усыновлению как к правовому явлению, которое имеет двойной эффект: правопрекращающий — относительно правовой связи с биологическими родителями, и правосоздающий — относительно связи с усыновителями, что приравнивается к кровному родству.
Именно на этом основываются наследственные права усыновленного и его потомков в отношении усыновителей и их родственников: они наследуют друг после друга так же, как кровные родственники. В то же время существуют важные нюансы относительно наследования по праву представления и очередности наследников, в частности относительно возможности усыновленного наследовать после смерти бабушки и дедушки или брата и сестры по происхождению.
Судья также детально остановилась на вопросе права на обязательную долю в наследстве, которое является особенно чувствительным, когда речь идёт о защите прав детей. Она напомнила, что малолетние, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя имеют право на обязательную долю независимо от содержания завещания, однако в отношении совершеннолетних детей, продолжающих обучение, позиция Кассационного гражданского суда заключается в том, что они не являются субъектами права на обязательную долю, несмотря на обязанность родителей содержать таких детей, предусмотренную семейным законодательством. Она также отметила, что судебная практика исходит из возможности уменьшения размера обязательной доли, но не полного лишения этого права. Особенно важным является недавний вывод объединённой палаты КГС ВС о том, что в случае смерти лица, которое имело право на обязательную долю, до открытия наследства по завещанию это право не переходит к его наследникам и не может реализовываться по праву представления.
Отдельным блоком Ольга Ступак осветила новые категории дел, возникшие в условиях полномасштабной войны и касающиеся как прав детей, так и их семей в сфере наследования и социальной защиты. Среди них — споры об установлении фактов пребывания на содержании погибших военнослужащих, признании одноосибного участия в содержании или воспитании ребёнка, а также назначении единовременной денежной помощи ребёнку, зачатому при жизни и рождённому после смерти военнослужащего. Верховный Суд уже высказался, что такой ребёнок относится к кругу лиц, имеющих право на назначение и получение единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего.
Не менее важным является подход к задолженности по уплате алиментов: задолженность, существовавшая на момент открытия наследства, переходит к наследникам плательщика алиментов и должна учитываться при разделе наследственного имущества.
Ольга Ступак также упомянула дело, которое сейчас находится на рассмотрении Большой Палаты Верховного Суда и касается установления факта пребывания внучки на содержании деда‑военнослужащего, подчеркнув, что подобные споры требуют особенно взвешенного подхода, поскольку от их решения нередко зависит доступ детей к важным социальным гарантиям.
Значительную часть выступления судья посвятила вопросам установления происхождения ребёнка после смерти предполагаемого отца. Она привела пример из своей судебной практики, когда женщина пыталась доказать факт отцовства умершего мужчины для защиты наследственных прав ребёнка, утверждая, что состояла с ним в фактических брачных отношениях.
Сложность таких дел заключается в ограниченных возможностях проведения генетической экспертизы: близкие родственники умершего часто отказываются предоставлять биологические образцы, а использование образцов других детей умершего может приводить к неожиданным результатам. В приведённом деле сравнение ДНК ребёнка истицы с ДНК сына умершего от предыдущего брака показало отсутствие какого‑либо биологического родства, после чего истица начала ставить под сомнение и происхождение этого сына, что ещё больше осложнило ситуацию. Суд, оценив все доказательства в их совокупности, отказал в удовлетворении иска, но, по словам Ольги Ступак, этот пример ярко демонстрирует, насколько эмоционально и доказательно сложными являются такие процессы.
В то же время в категории споров об оспаривании отцовства после смерти мужчины, который был записан отцом ребёнка, важной является позиция ОП КГС ВС, которая, применив по аналогии ч. 3 ст. 137 Семейного кодекса Украины, позволила наследникам мужчины оспаривать отцовство в случаях, когда он не знал и не мог знать о беременности жены, а иск направлен на защиту частного интереса, в том числе в сфере наследования. В дальнейшем, как отметила судья, судебная практика должна выработать подходы к тому, какие именно доказательства могут подтверждать, что лицо действительно не знало и не могло знать о беременности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.